07.03.2025 16:09:15
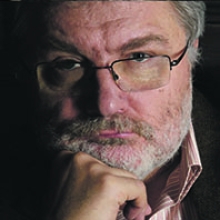
Слушать: https://radonezh.ru/radio/2025/02/22/19-00
Е.Никифоров: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Приветствую у нас в студии Юрия Михайловича Полякова, нашего известного писателя. Твои сочинения очень живые. «Совдетством» не перестаю восхищаться. Это не деланные, не придуманные какие-то дети, хотя, безусловно, творческая фантазия, но это так живо написано и так узнаваемо, что я прихожу в восторг. Буквально пару дней тому назад ты представлял в Доме православного Университета Иоанна Богослова свой двухтомник. Громадные два таких тома, прекрасно изданных. Не графомания какая-нибудь, а очень живые тексты, которые писались в течение практически 30 лет, как я понимаю. И, как ни странно, не устарели. Это действительно классика нашей русской жизни?
Ю.Поляков: В традиции нашей литературы – сочетание в творчестве художественных текстов и гражданских (публицистики). Конечно, были у нас в консервативном лагере чистые публицисты, такие как Меньшиков, Суворин, Победоносцев. Были, конечно, и в либеральном лагере тоже сильные публицисты. Но если мы возьмём всех более-менее серьёзных писателей XIX-XX веков, то у них всех довольно много статей. «Дневник писателя» Достоевского - чистой воды публицистика.
Е.Никифоров: «Отцы и дети»?
Ю.Поляков: «Отцы и дети» — это художественное произведение, но с мощной такой публицистической линией. Чехов? «Остров Сахалин»? Конечно, публицистика. Статьи Горького? Да, публицистика. Мне могут возразить, что у Булгакова практически нет публицистики. Это как сказать! Фельетоны, которые он печатал в «Гудке», в общем-то, публицистика. Другое дело, что у него нет политической публицистики, но именно поэтому он и умер своей смертью. Преждевременно, конечно, очень жаль, но своей смертью. А у Пильняка была политическая публицистика, и умер он тоже преждевременно, но, к сожалению, не своей смертью. Я абсолютно не открываю никаких Америк. Это наша традиция. Единственное мое отличие от коллег по цеху беллетристики в том, что я могу себе позволить собрать в двух томах свои статьи советского периода. Первая статья, которая открывает двухтомник, который вышел в издательстве «Русский мир», — это 88-й год. Статья вышла в литературной газете. И там есть целый ряд статей, ещё выходивших при советской власти, потом перестроечный, потом постперестроечный, ельцинский период, ранний путинский, средний путинский и до 2024 года. Кстати, статья, которая открывает двухтомник, носит чисто библейское название «Томление духа».
Е.Никифоров: Потому что тогда ты томился.
Ю.Поляков: Я и томился, и так почитывал все-таки, скажем мягко, Священное Писание. Позже стал уже читать с комментариями, серьезно вникая. И я могу позволить себе статьи собрать, потому что при всей моей эволюции и метаниях я все-таки себе не изменял… Идея Полякова 1988 года и сегодняшний наш разговор – это в принципе об одном. Разный уровень жизненного опыта, конечно. Тогда я был молодой человек, сейчас уже 70 лет отметил. Я пережил несколько исторических эпох. Для народа это ужасно, но для писателя – полезно. Получается абсолютно панорамное зрение в понимании вещей. Большинство моих коллег по перу себе такую роскошь позволить не могут. Иных люди начнут подозревать в том, что при советской власти одно мололи, при перестройке – другое, при Ельцине – своё, при Путине – новое, а когда началось СВО, вдруг очнулись, так сказать, большим патриотом, милитаризированным, будучи до этого чистым пацифистом. И что это такое? Мне таких вопросов читатель не задает. Слава Богу.
Хочу сказать об издательстве. Я очень рад, что этот двухтомник вышел в издательстве «Русский мир». Это очень уважаемое издательство, которое появилось ещё в конце 80-х. И оно всегда было сосредоточено на такой серьезной интеллектуальной литературе. Передо мной там выходил сборник статей Вадима Валерьяновича Кожинова, который оказал огромное влияние на наше поколение. Когда-то я должен был возглавить «Литературную газету», но период назначения растянулся на полгода, потому что надо было проводить достойно предыдущего редактора, который газету практически уничтожил. У нас так принято, если человек уничтожает отрасль, например, ему надо золотой парашют… Но я уже готовился, у меня был список авторов, в котором первый стоял Вадим Кожинов. Он как раз умер в январе 2001 года, а я вышел в газету в апреле. Зато мы отмечали все его круглые даты, юбилеи, печатали различные материалы. Он был очень серьёзным аналитиком русского сектора литературы. Если Рубцов – наш национальный поэт и один из лучших русских поэтов XX века, то Юрий Кузнецов – величина, сопоставимая по философскому накалу с Тютчевым, а ведь именно благодаря ему Кожинов был очень серьёзный критик, аналитик, литературовед. Я считаю, что лучшая книга о Тютчеве написана именно им. Помимо всего прочего, именно он ещё историософ, который в 90-е годы предложил патриотическую, точно акцентированную, доказательную модель русской истории, на которую сейчас опирается вся наша политическая риторика. Риторика в хорошем смысле у каждого государства должна быть своя. Без ссылки на Кожинова! Потому что если бы эта риторика опиралась на либеральных историков, то, вы понимаете, что ни оправдать, ни каким-то образом замотивировать наше геополитическое устремления последнюю столетия было бы невозможно. И опираются на Кожинова, но без ссылок на него! Но мы-то знаем, что это Кожинов. Так что это отец современной версии отечественной истории. Именно как историософ, потому что были крупнейшие историки, которые исследовали разные узлы исторические, много открыли всего, но общую отечественную историософскую модель патриотическую в 20 веке дал Вадим Валерьянович. Панарин Александр Сергеевич тоже передо мной выходил, Третьяков Виталий Товиевич тоже публицистик очень интересный, недооцененный. Он еще, слава Богу, жив. Вернусь к рассказу об издательстве. Уникальное издательство высокой культуры издательской. Во-первых, книжки роскошно изданы, стильно, красиво, на отличной бумаге. Плюс это единственное издательство, у которого сохранились три этапа проверки текста, как было раньше, когда в «Худлите» мы выходили, в «Совписе».
Е.Никифоров: Что за три этапа?
Ю.Поляков: Читает редактор, рукопись читает корректор, а потом уже в вёрстке ещё раз читает корректор. У меня давно не выходили книги, где ни одной ошибки, ни одной опечатки не находишь. Это большая редкость. Создатель этого издательства и многолетний руководитель Вячеслав Евдокимович Волков, – просто подвижник русской книги. Когда я был редактором «Литгазеты», мы активно рассказывали о книгах. У них широкий спектр. Они издают серию лауреатов премии Солженицына, хотя вы знаете моё сложное отношение с окружением вдовы Солженицына, да и моё неоднозначное отношение к фигуре Солженицына. Но среди лауреатов есть очень достойные люди. Распутин был лауреатом. Юрий Кублановский, кстати, очень хороший поэт. Один из лучших поэтов старшего поколения сегодняшнего. И многие лингвисты выдающиеся были. А что до презентации, то совершенно не случайно площадкой стал Православный университет Иоанна Богослова под вязом. Потрясающее название храма. Я как писатель говорю, понимаете, что был такой вяз, что его знала вся Москва. Думаю, что в Москве-то был не один вяз. Если говорить, что это Иоанна Богослова под вязом, это, видимо, грандиозный какой-то вяз, я так подозреваю. И там ректором уже много лет мой давний товарищ Александр Владимирович Щипков. Мы в «Литгазете» печатали публицистику Щипкова. Считаю, он сейчас ведущий православный публицист. Причём он набрал силу тем, что он бесконечно много и серьёзно работает. Каждый день без строчки не проходит, а писатель - тот человек, который все время пишет и отрабатывает каждый раз, каждый день стиль, мысли. Он из таких достойных людей превратился действительно в крупного публициста. Он, кстати, автор замечательного термина, многое объясняющего, – «гламурное православие». Это его термин, и у него таких немало. Точно, попадание. У него очень интересные работы именно по деформации православия на Украине и по консерватизму. Когда встал вопрос, где проводить презентацию книги моей, то обратился к нему. И место намоленное, и соответствующий контингент. Но в основном пришли люди мне близкие, идейно, так сказать, эстетически, дружески. Замечательный историк Евгений Юрьевич Спицын. Он, кстати, открыл встречу своим блестящим выступлением. Стали говорить о проблемах современной публицистики. сидит Игорь Прокопенко, – телевизионная публицистика, он автор РенТВ, ведёт передачу «Военная тайна». Он выпускает и книжки очень интересные. У него около ста книг, в частности, последний цикл «Спросите у Сталина». Это не апология Сталина, он приводит pro et contra, ведёт серьёзный разговор об эпохе. С другой стороны, сидел Животов Геннадий Васильевич. Может нашим слушателям эта фамилия ничего не говорит, но все, кто когда-либо держал в руках газету «День, а потом завтра», помнят, в правом верхнем углу в каждом номере есть замечательная сатирическая графика. Все помнят эти ряхи, так сказать, Ельцинского периода…
Е.Никифоров: И это редкость, потому что карикатура как жанр сейчас невероятна редка!
Ю.Поляков: Я вообще его называю наш русский Дамье. Он действительно уникальный. Со временем просто будут изучать нашу политическую историю по его политическим карикатурам. Помимо всего прочего, это хорошая графика. Бывает карикатура злободневная, художественная, но ты понимаешь, что слабовато. А он очень сильный! Эти газеты выходят уже 30 лет. Каждую неделю в каждом году у нас получается с пропусками примерно 50 номеров, множим на 30 – выходит полторы тысячи таких результатов. Это история в политической карикатуре. По этой теме ещё будут диссертации защищать!
Е.Никифоров: Важно понять, что действительно это большая редкость. Когда ещё русофобия в Европе не достигла своего пика, который сейчас, кажется, уже начинает даже извергаться, как вулкан, мне один мой приятель, депутат Сейма, единственный православный человек там, рассказывал, что они пытались в Польше для примирения сделать выставку параллельных карикатур. Так русских карикатур про Польшу не нашлось! У поляков изобилие, уж как они поиздевались над нами, это само собой. А мы что!? В принципе, у нас вообще очень мало карикатуры.
Ю.Поляков: Думаю, были, конечно, карикатуры времён «чуда на Висле», когда, к сожалению, из-за ошибок Тухачевского…
Е.Никифоров: Нет, я не это имею в виду, не ту старинную полную.
Ю.Поляков: Я считаю, что это объясняется другим моментом. Поляки нас воспринимают как врагов. Мы их воспринимаем как братьев по славянству. У нас никогда к ним ненависти не было. Хотя в Смутное время они у нас похозяйничали. Когда они начинают про советскую оккупацию, стоит вспомнить, что польское подполье реальное, которое хорошо у Лескова описано, очень сильно поработало на развал империи. И не случайно в первых большевистских правительствах поляков было не меньше, чем других инородцев. Дзержинский, Мархлевский, Менжинский – это на поверхности. На самом деле было гораздо больше. Поэтому, ребята, вы же этого добились, вы хотели независимости благодаря развалу империи, вот вы её получили. А дальше-то геополитика начинается? А вы что думали? Получите независимость и все, к вам никаких вопросов не будет? Будут. Но это мы отклонились от темы…
На презентацию пришёл и Виталий Третьяков, выступил очень интересно. Андрей Фурс, блестящий наш историк и такой политолог современный. Алексей Бобровский, Пётр Калитин, доктор наук философских. Выступил лидер нашего Союза писателей России Николай Федорович Иванов. Шла речь о предстоящих очень серьезных реформах в литературном пространстве. Это будет третья попытка, и все-таки будет создан Объединённый Союз Писателей. Я так слежу: интернет, пресса… Есть такой «Союз 24 февраля», объединяющий патриотических писателей. Конечно, смешно – все эти февралисты, и те, кто назывался какими-то датами… Все плохо закончили. Но они продвигают свои программы реформирования. Это же смешно! Они слово в слово повторяют то, что мы писали в 90-е годы! В книге моей новой можно найти статьи, где я все это пишу. Когда я возглавлял 16 лет «Литературную газету», мы все это писали! Мы проводили круглые столы. А они все эти идеи буквально раскавычивают. Была эпиграмма про одного историка. «Свои труды он увеличивал, чужие мысли брал и раскавычивал». Вы хоть сошлитесь, как же вы себя выдаете за первооткрывателей? Это был длинный процесс 30-летний, мы подготовили всю базу интеллектуальную и технические детали. Сошлитесь на первоисточники! Нет, это мы, это только мы, больше никто не понимает. И мне вообще эта структура «24 февраля» мне очень напоминает этих киршонов и других… Самых пролетарских, хотя бывших из семей лавочников, аптекарей, портных и так далее. Но они были пролетарии, знали, что нужно пролетариату, учили, как надо писать.
Е.Никифоров: Богатый Демьян Бедный…
Ю.Поляков: Демьян-то немножко в стороне стоял. Сгорел он на либретто комической оперы «Богатыри». По смыслу крестили Русь в результате большой пьянки князей, которые так перепились, что с пьяна крестили Русь. Оперу поставили в Камерном театре. Сталин это посмотрел. И это стало концом и Демьяна Бедного, и Камерного театра Таировского. Нельзя так глумиться. Сталин, как крупный государственный деятель понимал, что нельзя глумиться и уничтожать религию, веру, институт Церкви, благодаря которому Россия стала Россией. Если бы не православие, то никакого бы одоления татаро-монголов не было бы. И Наполеону мы бы проиграли. Казалось бы, Наполеон идет в страну, где весь правящий слой говорит и думает по-французски. Татьяна, любимая пушкинская героиня, изъяснялась с трудом на языке своем родном. Это в сельской местности! А Петербург вообще говорил по-французски и по-немецки, поскольку очень много немцев. Александр III наследовал трон, стал разбираться, и ему донесли, что оказывается вся Прибалтика говорит по-немецки, и делопроизводство там ведется на немецком. Когда присылается русский чиновник, он вынужден учить немецкий язык, потому что русский язык там никому не нужен. А это уже были 80-е годы! И только тогда в Прибалтику пришел русский язык. А мы удивляемся еще, почему Прибалтика смотрит на Запад. А чего же ей не смотреть, если она только по-русски заговорила за 20 лет до революции? Это же надо было выучить поколение, чтобы они знали русский. Чиновники, так сказать. На немецком языке. Потому что остзейские бароны всем владели. Все чиновники были, все землевладельцы.
Е.Никифоров: Вот тебе либерализм в царской Империи, потрясающие свободы!
Ю.Поляков: Но это та свобода, которая не нужна, потому что в империи делопроизводство должно вестись на основном языке. Кстати, если кто-то не знает… Когда началась Первая мировая война, у Финляндии была своя армия, денежки. Она отправляла в качестве добровольцев егерей воевать в немецкой армии против России, будучи частью России! Вот вам империя, заговор, опломбированный вагон… Если форпост империи имеет право отправлять своих бойцов в ряды, противоборствующие России, не может такое государство сохраниться! Оно обречено по крайней мере на отделение этих частей, что и произошло. Польша – 25% наполеоновской армии, которая перешла Неман. Какой смысл держать в империи такую страну, которая при малейшем политическом кризисе переходит на сторону твоих противников? Мы уклонились...
На презентацию я приглашал многих главных редакторов, в основном тех, чьи газеты я печатаю. Угланов Андрей Иванович, замечательные «Аргументы недели». «Вечерняя Москва» была, Куприянов Александр Иванович. «Российская газета», «Толстушка», Александр Черняк. «Роман- газета», Юрий Козлов. «Комсомольская правда», с которой я активно сотрудничаю, Александр Гамов, легендарный журналист, член президентского пула. У нас с ним уникальное есть издания. Сборник наших интервью, которые он берет у меня вместе с женой, они – соавторы. Мы выпустили сборник наших интервью, которые выходили в «Комсомольской правде». Называлось оно «Честное комсомольское», там первое интервью 1995 года, где я рассказываю о козлёнке в молоке, и последнее – это уже время СВО… Целая книга интервью! Много было там достойных людей! Хорошо поговорили о проблемах публицистики. Очень интересно выступила многолетний директор «Дома книги» на Арбате. Она там проработала 40 лет, этим лет 25 руководила этим магазином. Михайлова Надежда Ивановна.
Е.Никифоров: Факты она назвала потрясающие…
Ю.Поляков: Они не потрясающие, они, я бы сказал, приводящие в отчаяние. Вопиющее! Вдумайтесь, она сказала, что у нас на всю нашу 150-миллионную страну тысяча магазинов книжных с площадью больше 100 метров квадратных, что не так много для книжного магазина. И ещё где-то тысяча, где меньше, то есть киоски, закутки на вокзале… Для сравнения: тысяча книжных магазинов только в одном Париже! Не во Франции, а в Париже. А у нас на всю огромную страну?!
Е.Никифоров: Вот вам самая читающая нация.
Ю.Поляков: Я, как драматург, часто езжу на премьеры. Не буду называть города, чтобы просто не стыдить. Приезжаю в областной город на премьеру. Еду на день-два, чтобы заодно там сходить в музеи. Первое, что я спрашиваю у обычно принимающего гостей руководителя областной культуры, где ближайший книжный магазин? Мнутся, мнутся… и не дают ответа. Это руководители областной культуры! А есть города большие, но не районные, не областные. В таких городах вообще нет книжных магазинов! Ни одного. Есть какие-то почтовые, то, что раньше называлось «Союзпечать», но это же не считается. Во всем мире книжные магазины давно уже стали литературно-букинистическими кафе, клубами. И как раз Надежда Ивановна Михайлова как раз и пыталась добиться, чтобы магазинам книжным вернули статус культурных очагов. Их облагали налогом, как винно-водочные магазины. Она билась, билась, и добилась только того, что её просто уволили. В один прекрасный день она пришла, как у нас это принято, на работу, и увидела, что висит уже другая табличка. её даже не предупредили. Она боролась за то, чтобы магазины были культурными центрами. Если бы ей помогало государство в лице, например, «Роспечати», то конечно ничего бы произошло. Как раз по поводу Роспечати на вчерашнем обсуждении было очень много высказано критических замечаний. Ситуация плачевная. Недавно я зашёл в книжный магазин, сохранившийся ещё в Москве. Изобилие книг, а я книги очень люблю. Выходят два здоровых молодых парня. Они, видимо, случайно открыли эту дверь, не поняв. Потом посмотрели, вдруг говорят, слушай, может, книжку купим? И так заржали. Нет привычки покупать… Они в тужурках, хорошо одеты, но откуда будет эта привычка? Назовите на нашем телевидении хоть одну передачу, посвящённую книгам на центральных каналах!? Их нет. При советской власти были. Какие-то спорадические передачи бывают на канале «Культура», но это канал специфический, на котором каждый день должны быть передачи, посвящённые книгам, а не это непонятное бормотание в передаче «Открытая книга». Когда посмотришь, кого приглашает автор Шаргунов в студию… из пяти один с большой натяжкой может квалифицироваться как писатель.
Е.Никифоров: А он все-таки толковый человек-то. Сам писатель. Из хорошей семьи. Верующий человек, безусловно. Как так получилось у него?
Ю.Поляков: Я не знаю. Может быть это установка дирекции. Когда я вел на канале «Культура» передачу, у меня был программный директор. Не буду называть фамилию, она сейчас занимает очень большой государственный пост. Мы ругались, как кошка с собакой. Она говорит, что сегодня посвящаем эфир Бродскому. Хорошо, я люблю Бродского, замечательный поэт. Но вспоминаю, что Юрия Кузнецова юбилей рядом. А кто такой Юрий Кузнецов? Всё понятно? А этот человек сейчас у нас занимает большой пост. И мы ругались с ней со страшной силой. Нужно иметь позицию. На меня жаловались руководителю канала Шумакову, который и сейчас руководит. Сергей Леонидович, если он нас слышит, зря не прислали к нам на презентацию камеру.
Е.Никифоров: Камер, в общем-то, вообще не было, что очень обидно и жалко. Такие силы собрали. Такие силы редкие. Редкая возможность показать этих людей.
Ю.Поляков: Так вот шли к нему жаловаться, а он всегда говорил одно. Кто на экране? Поляков. Он за все отвечает. Поэтому, если он сказал, что должен быть Кузнецов, значит, будет Кузнецов. Раздаются возгласы, мол, а Поляков ещё хочет, чтобы был Кандинский и Аркадий Пластов. Ответ: если он хочет, чтобы был Аркадий Пластов, значит, должен быть Аркадий Пластов. А если он не хочет, чтобы был Кандинский, значит, не нужно Кандинского, потому что зритель видит и слышит его. Человек поработал-поработал и ушел – не выдержал со мной идейно-эстетических баталий. Если ты такой ведущий, у тебя будет все нормально. А если тебе эту всю графоманскую рать подсовывают, и ты сидишь и смотришь в рот человеку, который несет полный вздор, а его текст просто невозможно прочитать, потому что это неграмотно и к литературе никакого отношения не имеет. Зачем это все надо? Что за игра-то? Поэтому и не читают эту литературу, потому что её невозможно читать. И совершенно правильно Надежда Ивановна сказала про тысячу магазинов на 150-миллионный народ. Это безобразие. Много было интересного высказано. Интересно Прокопенко говорил о телевидении, об этих тайных пружинах телевидения. И он абсолютно правильно сказал, что главный герой наших книжных магазинов – Илон Маск. Он интересный человек. Ребята, это другая цивилизация.
Е.Никифоров: Немножечко расскажи об этом, потому что наши слушатели не знают, что он имел в виду.
Ю.Поляков: Он имел в виду, что есть такое понятие «выкладка». Когда ты входишь в книжный магазин, и ты спотыкаешься, скажем, об «Историю государства российского» Бориса Акунина, но это абсолютно либеральная, очернительская версия нашей истории. У нас всегда были такие историки. Была школа Покровского, которую потом закрывают с треском. Там вообще российская история как паскудное недоразумение изображалась. Один марксист, этот антимарксист, а очернительская линия преемственна. Входишь, тут же на книги Быкова натыкаешься, всех иноагентов. Не буду их называть. До того, как они стали иноагентами, они все были в самых центральных выкладках! Потом, когда их стали убирать, как инагентов, не стали выкладывать на передний план книги писателей патриотических, которые любят свою родину. А, кстати, большинство писателей не любят свою родину. Не любят-то меньшинство. Это заболевание. Аутофобия называется у психологов.
Е.Никифоров: Ну, может, плохо пишут эти писатели, патриотические?
Ю.Поляков: Почему же? Что, Распутин плохо писал разве? Может, Козлов плохо пишет? Сегин, Вера Галатионова, Николай Зиновьев, краснодарский поэт, один из лучших современных поэтов, — это они плохо пишут? Или Сергей Лобанов, поэт нового фронтового поколения? А где их книги? Захочешь найти, будешь долго искать. Потому что убрав эту всю инагентскую рать, уже можно должности лишиться. Они же не патриотов стали выдвигать, патриотов в смысле взглядов, а Илона Маска. Дело в том, что мы не знаем механизмов навязывания книг. То есть мы – знаем. Крупные издательства, имеющие серьезные материальные возможности, выпуская книги, заинтересованы в их продаже. А если книги не очень хорошо продаются, потому что ничего там особенного нет в этих книгах. Тогда просто такая джентльменская договорённость. Грубо говоря, мы вам эти книги отпускаем подешевле, вы можете нарисовать отпускную цену побольше, но вы их продвигаете. Форма заработка. Иногда материальная заинтересованность того, кто называется мерчендайзер… Жуткое слово. Выкладывают, получают деньги в конвертах. Так же, как галерейщики. Откуда берутся эти «знаменитые абстракционисты»? На пустом месте налепил, налепил что-то, но надо попасть в галерею. А пойди, попади. Нужно тоже, чтобы с тобой начали работать. И получается, что, когда у тебя висит какая-то почеркушка совершенно дикая в доме, она перепродаётся, ещё раз перепродаётся, и так далее. То есть, механизм сам по себе, практически как доллар. Эти бумажки, ничего не стоящие. Даже биткоин. Абсолютно ничего не стоящая штука, тем более, виртуальная какая-то, вдруг приобретает какую-то стоимость, которая растет! Из галереи попадает в музей, и всё. Это тоже очень важное продвижение. И я, конечно, очень надеюсь, что после реформы этого литературного пространства все-таки книжные магазины снова перейдут в сферу культуры. И, в общем-то, этот контроль будет отрегулирован, потому что это ненормально, когда «Торговая сеть России» десятилетиями выдвигала тех писателей, которые как по команде стали релокантами и инагентами. Такое ощущение, что им кто-то рассылал указания. Когда их убрали, они поставили Илона Маска и прочее. Думаю, что тут действительно необходим серьезный союз писателей с большими полномочиями и определенным влиянием на книготорговую сеть, но для этого сначала просто надо поменять руководство «Роспечати», потому что то, что делает «Роспечать», мне напоминает то, что именовалось словом «вредительство» в своё время. Кстати говоря, почему это слово не вернется в наш лексикон, я не понимаю. Это вредительство! Когда началось СВО, мы все помним историю исчезновения двух миллионов комплектов обмундирования. Это не вредительство? Чистой воды! Но не будем уходить в сторону. Хочу вернуться к началу нашего разговора. В начале передачи вспомнили про мою книгу «Совдетство», цикл прозаический. Теперь уже могу сказать, что я сдал в издательство АСТ четвертую часть «Совдетства». Она уже написана, сейчас как раз проходит эту самую, значит, вычитку, редакторскую работу. Писатель что-то может перепутать и ошибиться. Хороший редактор и хороший корректор – это просто необходимость. Если видите в книжке, что повесть или роман публикуется в авторской редакции, сразу откладывайте. Ни один нормальный писатель на выпуск книги в авторской редакции не согласится, потому что он понимает, что любой текст, даже самого грамотного человека, требует ещё и редакторского вмешательства, доброжелательного, естественно, и корректорского контроля. Четвертая часть цикла называется «Школьные окна». Это повесть довольно большая, где-то страниц 500. Описывается школа. Тут герой учится, но он во время учения умудрился влипнуть в такую историю, что мало не покажется.
Е.Никифоров: А я сразу спрошу, этот сериал «Германики» про школу Вы смотрели его?
Ю.Поляков: Смотрел, да. Это не кино… это черновик, как в литературе. У меня есть как правило где-то 5-6 редакций. Первую мою редакцию я не только печатать… я её вообще никому не показываю, потому что у меня там и фразы просто наживлены. Наживляю мысль, понимаете. В фильме этом всё неосмысленно, не прожёвано... Актёрские работы не глубокие. Посмотрите серию «Гай Германика», а потом посмотрите «Друг мой Колька», фильм, снятый, когда очень трудно было говорить какие-то реальные вещи. Там все есть. Замечательная сцена, когда сидит девица и от безделия на уроке спички себе на ресницы кладёт – сколько выдержат? Гениально! А это фильм конца 50-х годов! А у Германики ничего такого нет, это не искусство, такой подмалёвок…
Книга моя четвертая выйдет, думаю, в конце марта. Она очень острая. Мой герой попадает в очень нехорошую ситуацию, особенно для представителя пионерского отряда. Он же у меня активист, хорошист, любимец педагогического коллектива. И он влипает в такую ситуацию, что она ему могла просто сломать всю жизнь. Не буду рассказывать. Почитайте. И ещё могу сказать абсолютно точно. Я хотел остановиться на этой четвертой части. И, в принципе, у меня даже уже был написано послесловие, эпилог. Всё, как я люблю в «Трех мушкетёрах», например, на которых мы все выросли. Там заключение и ещё эпилог, который очень много значит. Потому что мои первые три мушкетёра, которые я читал, они были без эпилога, их оторвали. И когда я через 10 лет прочитал эпилог, то понял, что я вообще не знал, чем все закончилось на самом деле. Это очень важно. Так вот, у меня был такой эпилог, где я уже прощался с читателем, рассказывал, чем это все закончилось. Этот эпилог большой получился, но я вдруг подумал, а что же я так скороговоркой рассказываю про 10 класс. Герой уже юноша, уже интерес к девочкам приобретает, другие отношения, они играют в КВН, готовятся в институт, это поступление, это ощущение новой жизни, это 10 класс, и это всё я загнал в 5-7 страниц?! Конспект! Думаю, нет, я ещё напишу пятую часть, где я доведу своего Юру, его любимую учительницу Ирину Анатольевну, его друзей, доведу до конца школы. И, кстати, вообще жизнь очень интересная. Буквально недавно вдруг раздаётся звонок: мне звонит одноклассник Петя Кузнецов, с которым мы учились до восьмого класса, сидели вместе, ходили заниматься лёгкой атлетикой на стадион братьев Знаменских. Он у меня выведен под именем Кузя. И он мне позвонил, мы с ним не виделись с 1971 или 1972 года. Представляете? И вдруг звонит и говорит, помнишь такое? А как не помню?! Если кто был у меня на 70-летии в Доме литераторов, мог на сцене увидеть даму, которая является прототипом Шуры Казаковой. На самом деле её фамилия Шура Казаковцева. Она поздравляла со сцены. Очень хорошо выглядит моя ровесница. И я надеюсь, если Бог даст здоровья, сил, я все-таки ещё постараюсь написать эту пятую часть.
Е.Никифоров: Дай Бог. Я всегда зачитываюсь этими книгами, они невероятно живы, очень точно подмечены, и ощущение такой юности автора, настоящего автора.
Ю.Поляков: Да, мы оба вступили в восьмой десяток, но я надеюсь, что мы ещё пошумим.
Е.Никифоров: Ну, дай-то Бог, мне тоже хочется пошуметь. Итак, дорогие друзья, сегодня мы беседовали с Юрием Михайловичем Поляковым, замечательным писателем, книги которого я очень рекомендую вам почитать. Юрий Михайлович, возлюбленный, спасибо большое за такое живое общение.



Добавить комментарий