14.04.2025 14:05:23
Юрий Михайлович Каграманов
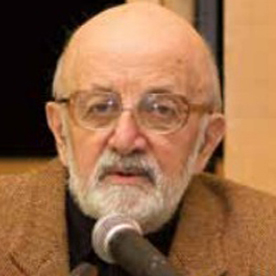
Популярность фигуры И.В.Сталина в продолжение всех минувших десятилетий ни для кого не была секретом, но как только в очередной раз взошёл на небосклоне кровавый Марс (а взошёл он, по моему убеждению, надолго), даже многие из вчерашних его противников стали искать в нём психологической поддержки. Тем более, что в мире наступает другое время: заново утверждают себя сила власти и власть силы.
Сталина называют виновником победы в величайшей из войн, которых когда-либо знало человечество. Этого у него нельзя отнять: допустив в начале её ряд ошибок, он в дальнейшем сумел так организовать фронт и тыл, чтобы опрокинуть великолепную в чисто техническом отношении германскую армию. Но было и множество других виновников, на которых сам вождь тактично указал на известном приёме в Кремле 25.6.1945: это «винтики» государственного механизма, простые люди, которые «держат нас, как основание держит вершину».
Вот вопрос о простых людях заслуживает внимания – как часть более общего вопроса: откуда брались силы, позволившие России-СССР одержать победу в войне?
Мы редко отдаём себе отчёт в том, сколь сильный отпечаток наложило на всю эпоху, именуемую сталинской, присутствие поколений, выращенных до 1917-го. В годы катастрофической революции и гражданской войны у них могла возникнуть оторопь, путаница в головах, но склонности и навыки, усвоенные ранее, не рассеялись, а будто затаились в ожидании каких-то новых перемен. В первую очередь это касается простых людей, если уж так их называть.
Именно простые люди в лице выдвиженцев, заполонивших партийные структуры в первой половине 20-х годов (в основном это были выходцы из крестьян), сделали возможным поворот государственного корабля в сторону реальной политики. Неуспех коммунистических восстаний в Европе привёл к охлаждению в отношении идеи мировой революции, в первую очередь среди «низовых» партийцев. «Ум мужицкой складки, привыкший с ранних лет брести путём угадки» (Демьян Бедный) стал нащупывать какой-то другой выход в будущее, веруя отныне в то лишь, что познаётся не «от виденья», но «от прикосновенья».
Вожаком у «низовых» партийцев сделался Сталин. Вероятно, до поры - до времени он был искренним революционером-большевиком, но при этом не был так глубоко индоктринирован, как его коллеги в партийном руководстве, зубы съевшие на марксизме (пытался одолеть «Капитал», но есть основания считать, что так и не одолел), поэтому ему проще было расстаться с призраком мировой революции и повернуться лицом к реальности.
И может быть, вынес он из родной Картлии, помнившей и воинов Помпея, и «бессмертных» империи Ахеменидов и многое другое, веяние вечности, даже им, сыном местного сапожника, уловленное. И с ним, кто знает, желание, «чтоб голос гор услышали в долинах», как сказано у одного картлийского поэта. И голос этот, с грузинским акцентом, был услышан «низовыми» партийцами, а спустя ещё какое-то время магнетизировал всю страну.
В политическом отношении «низовые» воспроизводили, сами о том не догадываясь, некоторые черты дореволюционного черносотенства. Только у тех лозунг был «За Веру, Царя и Отечество», а у этих первый и важнейший сочлен этой триады был подменён: место Бога заняла «звезда коммунизма», становящаяся всё более условной. Царь остался, но в платье «товарища». От реального товарищества Сталин избавлялся с течением времени, создавая дистанцию между собою и соратниками, даже ближайшими из них. Интуитивно одарённый (жертва его режима, великий в своём роде мистик Даниил Андреев признал за ним мистический дар уже по строению его черепа), он хотел выглядеть посланцем каких-то высших сил – и добивался этого! В армии, куда я призывался в год его смерти, призывники из села рассказывали мне, что у них есть люди, убеждённые, что товарищ Сталин не ходит по нужде! Поразительно! Такую «святую простоту» сегодня, наверное, уже нигде не сыщешь.
Недаром вождь самому Максиму Горькому не позволил писать свою биографию и запретил уже написанную, вполне апологетическую пьесу Михаила Булгакова «Батум». Полагаю, резон был таков, что в обоих случаях герой выглядел бы земным существом, а его сокровенным желанием было, наверное, чтобы люди видели в нём, хотя бы подсознательно, отпрыск какого-то солнечного бога. Конечно, появилась его официальная биография, но она была написана предельно скупо, графически, примерно так, как написаны жития святых.
Поселившись в Кремле, Сталин навёрстывал упущенное им в молодости -- стал книгочеем. Среди множества прочитанных им книг стоит выделить те, что способствовали выработке его политических воззрений. Это в первую очередь «Иван Грозный» историка (позднее академика) Р.Ю.Виппера и «Закат Европы» Освальда Шпенглера (с которой Сталин знакомился через книгу «Освальд Шпенглер и закат Европы» Н.Бердяева, С.Франка и других авторов, вышедшей в Москве в 1922 году). Из работ Виппера об Иване Грозном Сталин усвоил, как, опираясь на простых людей, повести борьбу с боярами ради укрепления своего самовластия (характерно само обращение к далёкому по времени опыту). У Шпенглера его более всего впечатлила (судя по тому, что он подчёркивал красным карандашом на своём экземпляре книги) мысль о воле к власти как делателе истории и о том, что великие империи строились через «принуждение, насилие и строгости» (замечания вождя на полях его книг исследованы историком Б.Елизаровым).
Между прочим, некоторые сторонники Дональда Трампа сегодня тоже опираются на Шпенглера, выступая в защиту сильной авторитарной власти. Причина в обоих случаях примерно одна и та же: пересыхание метафизического источника (коммунистического в одном случае, либерального в другом), что диктует обращение к интуитивному постижению реальности, к тому, что можно, фигурально выражаясь, ощупать.
Что ж, признаем, что в различных обстоятельствах, особенно в условиях войны сильная авторитарная власть действительно имеет определённые преимущества и бывает затребована «силою вещей».
Ещё «ресурс», сыгравший свою роль в воспитании подрастающих поколений: возрождение в основных её чертах дореволюционной системы образования и особенно той роли, какую играла в данной системе русская классическая литература. Кем-то это было названо «привитием классической розы к советскому дичку».
В этом есть личная заслуга Сталина, восприимчивого, как многие «нацмены» того времени, к её притягательной силе. Случается так, что один какой-то жизненный эпизод способен серьёзно скорректировать мировоззрение. Возможно, что так произошло со Сталиным, когда он однажды попал «в гости» к булгаковскому семейству Турбиных, в мхатовской постановке; которую он потом посещал бессчётное количество раз, что кое-что говорит о впечатлении, которое она на него произвела. Кремовые шторы на окнах подобных домов революционер Коба видел раньше только с улицы, теперь он получил возможность заглянуть внутрь, узнать, как жили раньше нормальные люди. Впечатление, полученное в театре, он дополнил чтением самого романа «Белая гвардия». Как и других произведений русской классической литературы, сидя ночами в своей кремлёвской библиотеке («валтасаровы пиры» на Ближней даче, ночь напролёт, о которых любят повествовать его биографы, задавал уже послевоенный, закосневший Сталин).
В отсутствие религиозной веры классика исподволь внушала христианские представления об этике. В частности, о том, как христианину должно вести себя на войне. Сегодня воздействие классики на умы подрастающих поколений, к сожалению, заметно убавилось. «Одностройность» русской классической литературы (оценка Ф.А.Степуна, отнюдь не отрицающая её громадного разнообразия) идёт в разрез с текущей ситуацией, когда внимание распыляется на слишком многое и по большей части незначительное.
С другой стороны, в России сейчас сорок с чем-то тысяч православных храмов, которые ждут новых прихожан, и приобщение к вере через литературу стало уже чем-то второстепенным.
Ещё один «ресурс» -- вера или хотя бы полувера в «звезду коммунизма». Истребив почти всю «старую гвардию» большевиков (за исключением немногих, как и он сам, переродившихся), Сталин не торопился погасить эту «незаконную звезду»: в пореволюционной России не было иного источника света, если не считать недозволенных и почти полностью подавленных. Окончательно погасла звезда, по моему впечатлению, где-то в конце 60-х, когда вера в коммунистическое будущее превратилась в чистую условность, держащуюся только силою привычки.
Обетование коммунизма, разносящееся из Красной Москвы, распространялось на весь остальной мир, отчего половина его до поры до времени с восхищением следила за «русским экспериментом». Что снабжало Сталина нелишним аргументом в его внешней политике.
Констатируем, что все те источники, из которых черпал свою силу сталинский режим, в основном или полностью исчерпаны.
А вот изнанка сталинского режима – его страшный карательный опыт остаётся по-прежнему в определённом смысле актуальным. Дело в том, что мы не вышли окончательно из марева гуманности, протянувшегося от Века Просвещения. Её породило христианское чувство любви (среди просветителей были не только сухие рационалисты, но и чувствительные и порою изнеженные люди), которое, увы, не могло стать победительным на всех азимутах истории. Революция семнадцатого года разбудила «уснувшие бури», которые размыли прежние представления о гуманности и многих людей приучили «весело ходить по трупам» (Артём Весёлый). Жестокость террора тридцатых годов – не изобретение Сталина или его приспешников, но продолжение «веселья» революционных лет.
Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» оценивает свой «предмет» с высоты понятий русской классической литературы (где-то в книге он прямо призывает Чехова увидеть то, что видит он). У классиков, главным образом у Пушкина и у Тютчева освоена тема хаоса, как силы, противоборствующей гуманности, вообще упорядоченности бытия, но хаос оставался для них на некоторой дистанции (у Тютчева читаем призыв: «О бурь заснувших не буди, // Под ними Хаос шевелится»).
Сталин, как мы помним, санкционировал продвижение в жизнь классики, а в то же время развязал, поскольку это было в его власти, невиданный по масштабам террор. Возможно, он ещё в семинарии вычитал в какой-то богословской книге, что левая рука Господа, в отличие от правой, милующей, не щадит преступивших. И войдя в роль демиурга нового строя, воспроизвёл подобную двоякость.
Заметим, что террор тридцатых годов – это не просто очередной иррациональный прорыв тёмных вод, в нём была своя логика. Это была масштабная контрреволюция (с чем и сегодня мало кто готов согласиться), и в ней как раз – самая большая заслуга Сталина. Сумей белые победить в гражданской войне, вряд ли они сумели бы они так круто порешить практически всю большевистскую партию времени Октябрьского переворота, как и почти всю верхушку РККА. С другой стороны, Сталин покарал и крестьянство (ужасающие факты на сей счёт хорошо известны), большая часть которого тоже выступала, как революционная сила. Тут испытываешь смешанные чувства: крестьян часто бывает жаль. Но ведь, и то правда, это крестьяне, одетые в солдатские шинели, побежали с фронта, перестав слушаться офицеров и открыв немцам дорогу вглубь страны. И это они на протяжении всего семнадцатого и восемнадцатого года жгли дворянские усадьбы, «где так много было скрыто // чистых сил и вещих снов» (Фёдор Сологуб), на которых поднялась великая русская культура.
Но логика террора не охватывает всю его практику. Однажды «разбуженная» и ставшая на время никому не подвластной пучина увлекала и ни в чём неповинных людей, вселяя страх не только в потенциальных жертв, но и в самих палачей.
И сколь ни неприятным это может показаться, страх тоже был «ресурсом».
Контрреволюция Сталина – дело давно минувших дней, но тёмные воды, которые её, так сказать, омывали, не ушли напрочь в землю. И «любовь ко всему благополучному», которую испытывал и продолжает испытывать благородный пудель Артемон (в «Золотом ключике» А.Толстого, догадывавшегося, что происходит в недрах страны советов и испытывавшего из-за этого холодок под ложечкой), легко может сбить с панталыку. «Клии страшный глас», этой, как считается, провозвестницы повторяющихся движений в истории, сулит наступление эона, не самого благоприятного для чувств добрых. И чья это вина?
Единочувственники, назовём их так, пуделя Артемона находят, что всё страшное и злое, что происходило, происходит и ещё обещает произойти, имеет причиною человеческие представления о Боге. Так, Юлия Латынина (иноагент, раз уж это необходимо уточнять) в недавно вышедшей книге «Сотворение Бога» пишет, что все деструктивное, что согласно Библии совершал Бог (устроил всемирный потоп, спалил целые города со всеми их жителями и т.п.) подводят его действия под статьи Уголовного кодекса РФ (!!); и что Он, следовательно, вовсе не благ, как это принято считать. Верующие не сомневаются в том, что Бог благ, но часто обманываются на счёт Его благодушия. Бездна (другое имя хаоса) изначально входила в план мироустройства (Быт. 1 : 2) и остаётся под спудом всего упорядоченного и гармоничного (в плане физики это разные «тёмные материи» и «чёрные дыры»). Извержения из-под спуда всегда «шевелящегося», по Тютчеву, хаоса вызваны тем, что п р о и с х о д и т в д у ш а х л ю д е й и в и х п р а к т и ч е с к о м п о в е д е н и и.
Но вернёмся к Сталину. Он как бы сфокусировал на себе всё значительное, что было в предшествующий период русской истории. Я как-то особенно почувствовал это в день его похорон. Когда гроб вносили в мавзолей, единовременно загудели все фабричные гудки необъятной России-СССР (возможно, это вообще был последний раз, когда были включены фабричные гудки, по крайней мере в Москве). В их пронзительно тревожном гудении будто сплелись воедино голоса всех тех, кто «жертвою пали в борьбе роковой», белых, красных и всех прочих. Сегодня я слышу в этом звуке завершение героической и трагической эпохи русской истории.
На смену ей пришла, если судить по высокому счёту, эпоха мещанства; что в самом скором времени стало ясно. Вслед за Мережковским вижу это явление, или состояние, как нормальное и как ущербное, в зависимости от контекста. О мещанине достаточно точно сказано поэтом:
Для кромешных спусков – робок,
Для полётов горних – слаб.
(Даниил Андреев)
В «расфокусированной» России никакого «царя в голове» не оставалось, лишь оставалась инерция сталинских порядков в некоторой их части. А так как на Западе их «либеральное» мещанство – более изощрённое, более затейливое культурно, естественным образом усиливалось тяготение в ту сторону. Ещё до того, как кончился СССР. Острая пища, которую подавали, хотя бы и небольшими порциями, со стола западного масскульта, разъедала души и всё больше дезориентировала соотечественников. Всё больше манил пример того Запада, где «путём греха, смеясь, скользит душа» (Бодлер).
Раздающиеся ныне стенания по поводу кончины СССР несерьёзны. Можно сожалеть о геополитических ошибках, допущенных тогдашним руководством, но это частности. В отсутствии сакрального измерения СССР пал, как падает перезревшее и начавшее гнить яблоко. А брать за образец сталинский режим просто как эффективную силовую структуру значит игнорировать вопрос о том, что его питало и обрекать подобный режим, если бы он вновь стал возможен, на недолгую по историческим меркам жизнь.
Сегодня рассчитывать на сколько-нибудь существенную помощь «от Сталина» не приходится. Время обращаться за содействием к невидимому, но реальному участнику исторического процесса: «Господи сил, с нами буди!» Для чего, конечно, надо возрастать в вере, памятуя, что верному в малом будет дано многое.



Добавить комментарий